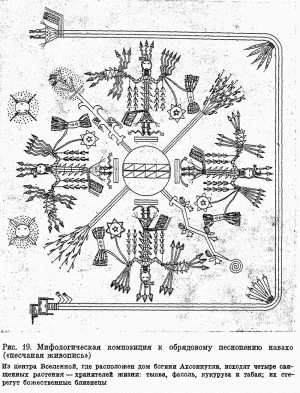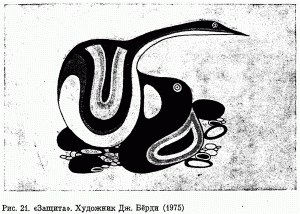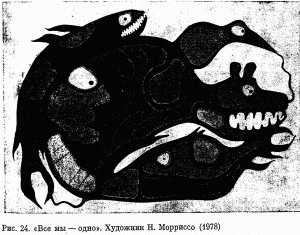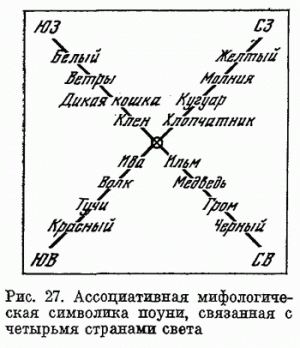Экологический опыт, накопленный коренным населением Северной Америки, значителен сам по себе уже потому только, что он принадлежит огромной массе разнообразных этносов, разбросанных по всему континенту, протянувшемуся на дальние расстояния по всем четырем странам света и охватившему самые различные географические пояса. Этот опыт всего убедительнее выявляется в конкретном анализе жизнедеятельности того или иного племени; однако не менее интересно и то, что при всем многообразии отдельных преломлений практика взаимодействия североамериканских индейцев с окружающей природой обнаруживает разительную общность черт. Сегодня эта общность проявляет себя в идеологии и системе мировосприятия, в художественном мышлении, и оказывается, что коренное население Америки проявило особую последовательность своего «экологизма», с необыкновенной яркостью реализовав его в различных видах искусства.
И в самом деле, «экологические» по своему характеру образность и символика придают самобытность искусству североамериканских индейцев на всем историческом пути его развития — от фольклора племен к современной индивидуально-творческой стадии. И, разумеется, примечателен тот факт, что многочисленные и высокие образцы живописи, литературы, музыки американских индейцев красноречиво говорят: «экологизм» художественного мышления индейцев поднялся до уровня цельной и самобытной поэтики, он стал необходимым языком, с помощью которого и может индейский художник — в широком смысле этого слова — выразить сегодня духовный мир своих собратьев.
С 1960-х годов, когда ряд этнических групп США (негров, мексикано-американцев и др.) пробудился к активной общественно-политической и культурной деятельности, традиционный «экологизм» индейцев проявился в единстве идеологических формулировок (раскрывающих смысл движения коренных американцев за гражданские права, за сохранение охотничьих, рыболовецких угодий, пастбищ и вообще резервационпых земель) и эстетических понятий, определивших облик их литературы и других видов искусства.
На волне встречного иптереса, вспыхнувшего в научном мире ж феноменам культур развивающихся стран и родственным им явлениям, по отношению к индейскому фольклору все чаще стал употребляться термин «экология духа». Обычно речь шла при этом о функциональном значении обрядового фольклора: песни и заклинания, как и некоторые другие его формы, служили средством духовного и физического выживания общины/индивида в условиях враждебного внешнего мира, полного неожиданных опасностей. При этом, правда, авторы мало писали о том, каким образом виды народного творчества, рожденные на основе тесного взаимодействия с природой, обнаруживали на себе ее отчетливую печать. «Экономика» в данном случае неразрывно связывалась с экологией, что в подобном контексте было не подменой понятий, а закономерностью.
В эссе «Человек, сотворенный словом» известный индейский писатель Н. Скотт Момадэй связывает воедино понятия экологии, «этики американской земли», «сказительства и воображения». Он приводит прекрасный пример того, как именно природные явления, завладевая сознанием социума, оказывают обратное воздействие на окружение уже в новом качестве — в виде творческого акта пересоздания действительности. Речь идет о переломном моменте в истории племени кайова, наступившем в период первых контактов с американскими поселенцами и совпавшем со звездопадом 1833 г.: «Видите, что получается, когда воображение накладывается на историческое событие? Так возникает предание… Когда потрясенные люди племени кайова оправились от испуга, они вообразили, что звездопад имел символическое значение для всей их жизни, что он предрек им горькую участь…
Только благодаря этому смогли они вынести все, что обрушилось на них в дальнейшем. Не было такого поражения, такого унижения, таких страданий, которых они не смогли бы вынести, ибо в каждом из них усматривали определенный смысл. Они могли сказать себе: «Да, это неизбежно должно было произойти в свой черед. Существовавший в мире порядок нарушился, тут сомнений быть не может. Ведь даже звезды сорвались со своих мест»1.
Здесь собственно, описан «механизм» того, каким образом природное явление вошло в пиктографические календарные летописи многих прерийных племен, став частью их духовного мира. И была глубокая закономерность в том, что спустя столетие с лишним первый писатель из племени кайова создал литературную хронику истории своего народа, сделав этот эпизод в ней (да и во всем своем творчестве) одним из принципиально важных.
Именно этот аспект проблемы экологических связей — вопрос о том, каким образом элементы естественной природы и опыт взаимодействия с ней, претворяясь в сознании индейского этноса, становятся достоянием поэтики художественного творчества,— и является предметом рассмотрения данной статьи. Он особенно важен, так как касается всей истории коренного населения Северной Америки на всех ее этапах.
*
Я учиться пойду, если буду жив,
Учиться у Солнца, если буду я жив…
Племя осейдж
В доколониальный период, на стадии культуры племени, опыт взаимодействия аборигенов с природой находил отражение в особенностях уклада жизни, опиравшихся на систему мифологических представлений. Они в свою очередь получали реализацию в фольклоре, в значительной мере «задавая» характер его поэтики.
Конечно, конкретные эстетические эталоны и художественные средства определялись традицией, но ее составляющие зависели во многом от опыта взаимодействия человека и природы. Здесь существовала, таким образом, прочная, постоянная связь. Естественно, в пределах разных регионов и от племени к племени характер поэтики мог значительно меняться, но все же не настолько, чтобы утрачивать типологические черты, позволяющие нам отвлечься от конкретных различий в пользу общих закономерностей, определяющих творчество индейцев в целом.
Наглядным примером интересующего нас процесса может служить обрядовая поэзия, в частности у навахо и осейджей. Известно, какое широкое распространение имеют в Северной Америке представления о четырх странах света. Каждое из направлений ассоциировалось у индейцев с определенным растением, животным, цветом, элементом неживой природы, группами божеств (см. рис. 27). Обрядовая поэзия призвана была воздействовать на могучие силы, воплощенные в этих мифологемах, в интересах племени или индивида; и в контексте песнопений мифологическая символика объективно становилась средством художественной организации тех или иных заклинаний, «поэм» и др. Вследствие этого у навахо культ четырех стран света превращался в четырехкратный повтор с приращением — иначе говоря, в художественный прием, влияющий на внешний облик песен, их общий композиционный рисунок и ритмику. Вот как это выглядело в одной из наиболее известных песен, вошедших в многодневный обряд «Ночного песнопения»:
Дом, сотканный из рассвета,
Дом, сотканный из заката,
Дом, сотканный из туч,
Дом, сотканный из ливней,
Дом, сотканный из туманов,
Дом, сотканный из дождей,
Дом, сотканный из пыльцы,
Дом, сотканный из кузнечиков.
Вход темная туча скрывает.
Туча темная выход скрывает.
Молнии зигзаги его венчают…
Счастливо, в тучах обильных пройду,
Счастливо, в ливнях обильных пройду,
Счастливо, средь всходов обильных пройду,
Счастливо, тропою пыльцы я пройду,
Счастливо я пройду…2
Подбор элементов естественной природы, упоминаемых обычно в такого рода песнях навахо: туч, ливней, злаков, цветов в др., воспроизводит понятия, сопутствующие определенному способу хозяйственной деятельности, но выступает внутри песни как слаженная система художественных средств. И сам по себе каждый художественный образ служил принципиально важной цели обрядового называния (номинации). Рожденный миром внешним — как, например, деление на дождь-мужчину (ливень, гроза) и дождь-женщину (моросящий дождик), характерное для поэзии навахо,— такой образ призван был вернуться в мир природы с целью ее трансформации, восстановления равновесия между индивидом и окружением. Известно, что распространенная финальная формула песнопений навахо — «в красе завершаю» — в дословном виде звучит несколько иначе: «Состояние мировой гармонии для меня ныне восстановлено».
То же сложное соответствие мифологических персонажей, культурных растений, стран света в сочетании со сложной цветовой символикой — только в виде готовой идеальной картины — можно увидеть на знаменитых песчаных рисунках навахо, являющих собой, может быть, наиболее разительный пример «естественной» доколумбовой поэтики (рис. 19).
Рис. 19. Мифологическая композиция к обрядовому песнопению навахо («песчаная живопись»)
Из центра Вселенной, где расположен дом богини Ахсониутли, исходят четыре священных растения — хранителей жизни: тыква, фасоль, кукуруза и табак; их стерегут божественные близнецы
Во множестве сюжетов, характерных для фольклора североамериканских индейцев, отражается картина своеобразной адаптации племени — физической и психологической — в ходе совершаемой им миграции. С большей или меньшей долей мифологической фантазии этот опыт реальных контактов коренного населения Америки с природой породил особый круг фольклорных произведений, отразивших доколониальный духовный космос индейских племен. Синкретичные по жанровой природе, такие повествования тяготеют в равной мере к истории, мифологии и эпосу.
Так, например, в «Валламолуме», «Красном Перечне» индейцев делаваров регулярно сообщается о фактах разделения племен в силу различных причин социального и экономического характера — стихийных бедствий, голода, войн, и т. д. Такого рода материал можно найти в мифологии многих других народов. Но уникальную особенность поэтики дел аварского предания составляют имена вождей: своим значением они призваны подчеркивать драматизм происходящих с племенем событий и таким образом образуют важный метафорический ряд в структуре всего произведения:
…А вождь Озябший повел всех южнее, в край кукурузный.
Потом вождь Початок сажал кукурузу,
И вождь Грозовик, урожаям полезный.
Но был вождь Соленый и вождь Засохший,
И не стало дождей, кукурузы не стало,
К востоку пошли все, туда, где влага…
«Красный Перечень», песнь IV 3
Более фантастический вид подобная адаптация приобретает в мифологических поэмах осейджей, нередко целиком посвященных поискам первопредками целой системы тотемических регалий, заимствованных из ближайшего природного окружения и, следовательно, как-то связанных с экологическими процессами.
Здесь люди призваны «уподобить свой облик» тем или иным птицам, породниться с различными животными, чтобы, говоря словами песни, «стать не подвластными смерти». Крупнейший знаток мифологических преданий осейджей Франсис Лa Флеш указывает, что символика песен подбиралась каждый раз в зависимости от того, какого рода деятельности рода или племени должно было способствовать ее исполнение. Если речь шла о мирных занятиях, применялся один набор эпизодов и персонажей (птиц и зверей), если же о войне или охоте — совершенно иной4.
Таким образом, обрядовый традиционный фольклор индейцев демонстрирует преломление в нем многих экологических феноменов и связей. При этом первобытный поэт не стремился, конечно, к созданию особой системы художественных средств — его деятельность служила столь же непосредственным средством выживания, как острога или лук. И тем не менее мифологический «экологизм», определяя построение песен и образность многих видов устного фольклора, объективно выполнял функции, принадлежащие поэтике.
*
… С востока ты дал мне чашу живой воды и священный лук, власть оживлять и уничтожать. Ты дал священный ветер и траву из страны, где живет белый великан, власть очищения и врачевания. Утреннюю звезду и трубку ты дал с востока, а с юга — священный обруч народа и древо, предназначенное к цветению. … Ты сказал, что я должен заставить это древо цвести.
Черный Лось 5
Как бы мы ни называли период с XVII по XIX в. в истории индейцев Северной Америки — эпохой завоевания континента или «переходным», как предпочитают это делать американские историки,— несомненно, что он составил особую пору в эволюции индейской культуры, носившую переломный характер. Колониальная экспансия белых поселенцев, сопровождавшаяся постоянными вооруженными конфликтами, и вся совокупность культурных контактов между аборигенами и европейцами постепенно подводили носителей местных культур к рациональному осмыслению традиционных ценностей, в том числе и собственного экологического опыта, который стал в их понимании противопоставляться практике пришельцев. Но это происходило как методом «от противного», в споре с представителями иной культуры, так и путем восприятия элементов завезенной традиции. Полемический материал, содержащий защиту древнего уклада жизни, сопоставление двух способов существования, можно обнаружить в различных письменных и устных высказываниях, принадлежащих той эпохе. Исподволь аргументация социально-политическая часто выражалась в традиционной форме или искала новых самобытных форм для выражения насущного содержания. Пожалуй, наиболее ярко это отразилось в риторике индейских вождей XVII—XIX вв. Так, распространенным приемом были формулы приветствий, содержащих здравицу в адрес европейских посланцев (государственных чиновников, первопроходцев и т. д.). Их прибытие сравнивалось с идеальным состоянием окружающей природы, словно под действием высших сил приведенной в гармонию: «Благодарю тебя, Черный Плащ, и тебя, француз, за тяжкий труд, затраченный во имя свидания с нами. Никогда еще земля не была столь прекрасной, ни солнце столь ярким, как сегодня; никогда река наша не бывала столь спокойной и свободной от каменьев, ибо лодки ваши расчистили ее, проплывая к нам; никогда табак наш не бывал столь ароматен, а кукуруза не поднималась столь стройно, как предстает она взгляду ныне» (Вождь Никинапи, 1673 г.6).
Более поздней и весьма показательной рефлексией явилось возникновение целого пласта натурфилософской и краеведческой прозы на рубеже XIX—XX вв., в развитии которой сыграли значительную роль индейские писатели США (например, Чарльз Истмен) и Канады (белый индеец Серая Сова). Так, весьма необычные попытки «вживания» в характер животных можно найти в сборнике рассказов Истмена (индейское имя Охайеза) «Краснокожие охотники и звериное племя». Автор выделяет частые случаи взаимопомощи людей и зверей, показывая глубину взаимопроникновения их в бытие друг друга. Естественно, что книга завершается неутешительным выводом: в мире белых, где царят произвол и «прогресс», эта взаимосвязь индейцев и животных, живущих по древним законам, ставит их под угрозу гибели.
Симптоматично, что у такого глубокого традиционалиста, каковым являлся Черный Лось, или у такого уже вполне «европейски» образованного индейского автора, как Мато Нажин (оба из племени сиу), мифологическое восприятие вопросов взаимосвязи индейцев с природой приобретает системность, философскую окраску, в нем характерны попытки обобщить опыт народа: «Животные обладали правами: правом на защиту человека, на жизнь, на приумножение, на свободу и на человеческую благодарность. И в знак признания этих прав Лакота никогда не порабощал животных и щадил жизнь, если не нуждался в ней во имя добывания пищи и одежды» 7.
Перед нами, конечно, рациональный уровень осознания экологических норм индейского общества, как они представлялись индейским авторам начала XX в. В их суждениях можно одинаково заметить и углубленный взгляд на эту проблему, демонстрирующий ее первостепенную важность для коренных жителей США, и определенную идеализацию «доколониальной» экологической практики индейцев. Однако наряду с публицистикой в среде индейских идеологов рождалось уже в начале нашего столетия и нечто большее — предвосхищение нового стиля, новой эстетической реакции на изменившиеся окружающие условия. Любопытный пример являет собой творчество Гертруды Боннин (Ситкала-Са). В ее эссе с полемическим названием «Почему я остаюсь язычницей» (1902) под маской нейтрального поэтического описания ведется глубокий спор с христианской моралью и едва ли не впервые предпринимается попытка обоснования жизненно необходимой связи своей культуры с природой как способа мышления, способа духовного и физического бытия. В прозе Боннин эти понятия звучат почти тождественно: «Мои сложенные руки надолго замирают на коленях. Я и мое сердце лежим на земле, подобно мельчайшим пульсирующим песчинкам. Проплывающие облака и журчащие воды, как и тепло доброго летнего дня, красноречиво говорят о любвеобильной Тайне, что окружает нас. За то время, что пробыла, отдыхая, на залитом солнцем речном берегу, я выросла немного, хотя мой отклик и не был столь явно выражен, как у зеленой травы, окаймляющей подножия высокой скалы за моей спиною» 8.
Такого рода примеры (а их легко умножить), как представляется, убедительно’ показывают, что даже в наиболее тяжелый период истории индейских этносов, когда их культура и сама возможность дальнейшего существования находились под угрозой, изнутри проявились стойкие тенденции, способствовавшие консолидации самосознания. В споре с культурой господствующей опыт взаимодействия с природой впервые стал принимать форму идеологии, а по мере того как фольклор и письменность индейцев становились литературой,— и эстетики.
*
Стремительность пантеры еще остается познать, и терпение паука еще остается постичь. Дар жизни должен быть израсходован, а не растрачен.
Джеймс Фредерик Килпатрик 9
За последнее десятилетие о современном искусстве североамериканских индейцев написано уже немало — не только статей, но сборников и монографий. Тем не менее поэтика их литературы, живопись, не говоря уже о своеобразии музыки, исследованы еще весьма недостаточно. Все, что говорится в этой связи, представляет собой чаще либо скороговорку, либо фрагментарный этюд, нежели серьезное исследование. Естественно, что то же самое касается и экологизма как особой черты художественного мышления современного индейского писателя или живописца. В конкретных условиях послевоенной Америки конца XX в. система выразительных и изобразительных искусств американских индейцев выступает с собственной программой идеологических и эстетических установок, и органичному сочетанию этих качеств способствует уже сложившаяся поэтика. Другое дело — и об этом необходимо сказать со всей определенностью — что развитию поэтики и самого индейского искусства серьезно препятствуют законы, по которым существует буржуазная цивилизация, и то, что понимается под «американским образом жизни». Давление, которое постоянно оказывается в многообразных формах на культуру индейцев (путем навязывания чуждых эстетических канонов, .ложных интерпретаций, замалчивания, экономического бойкота и т. д.), трудно переоценить, но тем интереснее проследить, какие формы принимает самозащита тех индейских художников, кто наиболее тесно связан с народными традициями и своей культурой.
Рис. 20. «Единение животных». Художник-оджибве Н. Моррнссо (1978)
Уже в творчестве отдельных писателей середины века можно увидеть обращение к приемам, преобразованным из арсенала народной традиции, связанной с природоведением. Так, например, образность традиционного экологического календаря индейцев -была впервые применена в художественном произведении Джоном Джозефом Мэтьюзом, писателем из племени осейдж, в книге «Речи, обращенные к луне» (1945). Повествование делится в ней не на главы, а на «месяцы», где каждый (Посевная Луна, Луна Прячущихся Оленей, Луна Медвежонка и т. д.) порождает в сознании определенный настрой. В 1970-е — 80-е годы этот прием станет уже весьма распространенным, проявившись в творчестве поэтов (Дуэйн Ниатум, цикл «Легенды лун») и других индейских литераторов.
Рис. 21. «Защита». Художник Дж. Бёрди (1975)
Наконец, тема изображения животных и явлений неживой природы становится важной отправной точкой для индейского писателя; они одухотворяются, и пафос художника заключается в том, чтобы разбудить некое естество, дремлющее в современной личности, для направленного воздействия на окружающее (рис. 20).
Рис. 22. «Равновесие природы». Художник Н. Морриссо (1979)
В сфере живописи особенно глубоким погружением в природу отличается так называемая мифологическая школа канадских художников-алгонкинов (оджибве-кри-оттава), основоположником которой по праву считается Норваль Морриссо. Обширная группа картин этого живописца непосредственно связана с экологической тематикой: таковы композиции «Единство» (1977), «Равновесие природы» (1975), «Все мы-одно» (1978) и др. (рис. 21—23). Идея единства и взаимозависимости человека и окружающего мира подчеркивается тесным сплетением гуманоидных и зооморфных форм, альянсом небесных наземных и подземных тварей, как бы объединенных общим духовным качеством. То же самое подчеркивает и особая экспрессия контура, замыкающего всю композицию. Сердце и уста человека и зверя нередко соединяются общей «нитью» — символом духовного, «сверхъестественного» взаимопонимания (рис. 24).
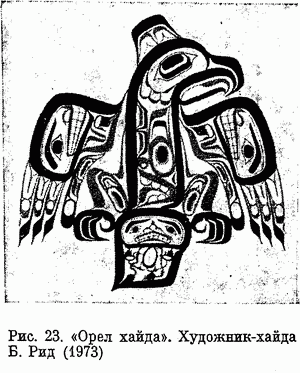
Рис. 23. «Орел хайда». Художник-хайда Б. Рид (1973)
Среди проявлений того же процесса следует особо выделить ирокезский материал, неожиданным образом сочетающий в себе традиционность и новейшие поиски. В настоящее время можно сказать, что среди индейских этносов к востоку от Миссисипи ирокезы выступают как наиболее активная творческая сила с точки зрения поэтики и идеологии. Об этом говорит экологическая тематика ирокезских газет и журналов («Аквесасне ноутс», «Аквекон» и др.), постоянно публикующих острые статьи и графику, плакаты, раскрывающие проблемы экологии, особенно в применении к конкретике состояния индейских земельных угодий. Недавно выпущенный альбом графики талантливого ирокезского художника Кахионеса демонстрирует сочетание растительных и животных символов с мифологической и насущной социальной символикой10 (рис. 25).
Рис. 24. «Все мы — одно». Художник Н. Морриссо (1978)
Разительным примером типично индейского современного «экологического» рассуждения является вступление ирокезского поэта Мориса Кенни к новому сборнику стихов. Экологизм выглядит здесь как творческое и жизненное кредо. Уроки, полученные в результате общения с природой, представляются глубже, чем опыт социальный, хотя на самом деле это лишь специфический способ говорить сегодня о социальных проблемах «по-индейски»: «Я никогда не признавал за человеческим родом права превосходства. Никогда я не удостоивал человечества столь хвастливого титула… И хотя я никогда не питал особой любви к норвежской крысе или к бруклинскому таракану, я не в силах отказать им в праве на существование. Где-то, каким-то образом они вливаются в единую семью всех творений и обладают назначением в совершенном замысле нашего творца…
Рис. 25. Композиция ирокезского художника Кахионеса для настенного календаря
В круг — символ всемирного единства — вписаны Орел (птица Солнца), Медведь (тотем могауков) и другие символы; в центре—человеческий зародыш (символ будущего) в узоре из сцепленных человеческих рук
Однако я не тревожусь о том, что норвежская крыса или таракан из Бруклина не переживут ядерной катастрофы… Они значительно легче приспосабливаются к любым условиям, нежели дикая земляника, чья жизнь так зависит от яркого солнца и прихода новой весны. Я больше боюсь за выживание ястреба, за радужную форель Адирондакских озер, за щуку в реке Св. Лаврентия, за болотный ирис, за медведя в лесу; да-да, конечно же, и за человечество… в его красоте и глупости, способности к творчеству и тупому уничтожению. Я трепещу ночами оттого, что его неразумие, его слепота могут победить здравый смысл и что все существа, большие и малые, погибнут. И, однако же, разве человечество не прекрасно? Столь же совершенно, как волк или черепаха, хотя, быть может, и не столь храбро, как ондатра (мифологический «ныряльщик за землей» после потопа.— А. В.), и не столь изобильно, как кукуруза или фасоль, или тыква — три сестры-богини? Но человечество наделено духом… столь же великим, как дар орлиного зрения, сладость земляники, полет пчелы. И потому человечество, вероятно, сможет выстоять и со здравым смыслом предоставить всем созданиям равное справедливое право на жизнь…
Рис. 26. Композиция индейского художника К. Бракупэ для настенного календаря
Трубка связует нашу кровь,
Орел охраняет нас,
Древо мира защшцает наш народ,
Мы — дети единой Матери,
Первотворение укрепляет наши тела,
Сестры, братья, мы неколебимы
Эти песни и истории призваны напомнить человечеству о его красоте и красоте окружающего мира и подсказать ему его обязанности. Вот тот барабан, звук которого отдается по лесам и лугам, проникая через великие пространства вод и небес, пронизывая всеобщее духовное бытие» 11 (рис. 26).
*
Все сказанное в связи с экологией и поэтикой североамериканских индейцев подводит к следующим выводам.
Из всех сфер общественного сознания опыт взаимодействия с природой находит наиболее убедительное воплощение в современном искусстве индейцев, где создаваемый ими художественный язык свободен от подражательности и идеологической незрелости, которая нередко отличает политические концепции индейских организаций и общественных лидеров.
Рис. 27. Ассоциативная мифологическая символика поуни, связанная с четырьмя странами света
В сфере образного воссоздания окружающего мира исторически индейскими культурами был описан своеобразный эволюционный круг: от неосознанной первобытной системы художественных средств к осмысленной поэтике отдельных видов искусства, прежде всего — литературы и живописи (рис. 27). На основании выявленного материала справедливо, очевидно, полагать, что существует ряд национальных культурных традиций, чье творческое мышление исконно обращено к экологическим феноменам и наиболее последовательно использует их в процессе выработки традиционной, затем национальной поэтики искусства. К числу таких культур, в частности, с несомненностью относится японская, в которой наблюдается сходное явление — реализация в эстетике философских аспектов опыта жизни на природе.
Рассмотренные примеры индейской литературы и живописи свидетельствуют о том, что особенности «экологии духа» требуют детального анализа не только с точки зрения количества материала, учета его высокой эстетической завершенности, но и пристального внимания к вопросам техники — как именно строятся те или иные изображения или описания.
Разговор об индейской поэтике, вероятно, уместнее всего завершить напоминанием о том, что на современном этапе обществен^ ного развития в экологических процессах принимает участие и «вторичная система» — опосредованного взаимодействия с природой, т. е. область художественного творчества и вообще — фактор саморефлексии человека, мыслящего в рамках экологических отношений, оправдывающего как собственную деятельность, так и пассивность.
На практике же органичное проникновение экологической проблематики в поэтику художественного творчества приводило к активизации масс в деле взаимодействия их с непосредственным окружением, т. е. возвращало их к изначальной сфере экологии.
- Я связан добром с землей: Из современной литературы индейцев США/ Сост. А. Ващенко. М., 1983.
- American Indian prose and poetry/Ed. by M. Astrov. N. Y., 1962.
- American Indian literature: An anthology/Ed. by A. R. Velie. Norman, 1979.
- La Flesche F. War ceremony and peace ceremony of the Osage Indians Wash., 1939. (Bur. Amer. Ethnol. Bull. 101).
- Black Elk speaks: Being the life story of a Holy Man of the Oglala Sioux: As told through John G. Neihardt. N. Y., 1972.
- I have spoken: American history through the voices of the Indians/Comp, bv V. I. Armstrong. N. Y., 1972.
- Standing Bear, Luther (Mato NaЛn): Land of the Spotted Eagle. Lincoln, 1978.
- Literature of the American Indian/Ed. by E. T. Sanders R. W. Peek. Beverly Hills (CaL), 1973.
- Run toward the Nightland/Ed. by J. F. Kilpatrick, A. G. Kilpatrick. Dallas, 1967.
- Kahionhes J. Visions in ink: Drawings of native nations. N. Y., 1983. Unpaged.
- Kenny M. Is summer this bear. Turtle Round Road. 1985.