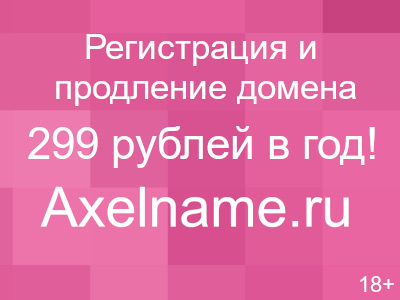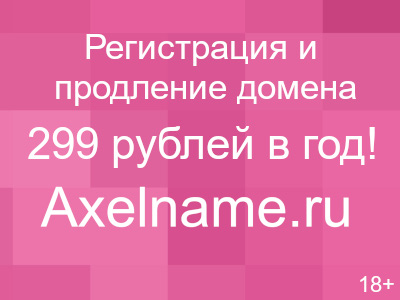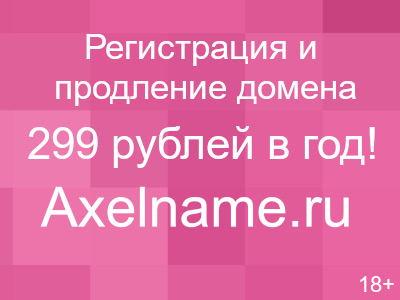Эскимосы — самые северные обитатели Земли. Их редкие и малочисленные ныне поселения узкой полосой растянулись от берингоморского побережья Чукотского полуострова вдоль прибрежной полосы Аляски и прилегающих к ней островов, по побережью и островам Канадского арктического архипелага до покрытой вечными ледниками Гренландии.
Полученные за последние три-четыре десятилетия научные данные в области археологии, антропологии, этнографии и строя языков коренного населения субарктической зоны Азии и Америки свидетельствуют о том, что центром прародины эскимосской культуры явилась область древней Берингии, а точнее — район азиатского и американского побережий Берингова пролива. Пришедшие в эту область Берингоморья из Северо-Восточной Азии предки протоэскалеутов первоначально заселили прибрежные земли.
До освоения шлифованных орудий в комплекс хозяйственной деятельности протоэскалеутов входили охота на оленя и мускусного быка, рыболовство и добыча мелкого тюленя примитивными каменными и костяными орудиями, а в период позднего неолита, когда такие орудия появились, комплекс их занятий обогащается охотой на крупного морского зверя, особенно моржа и кита, что повлекло за собой зарождение коллективного труда (особенно при добыче китов, их транспортировке к берегу и разделке).
В эпоху позднего неолита предметы быта и охоты из камня, кости, китового уса, шкур морских животных и птиц, украшения из моржового клыка (художественная резьба, миниатюрные скульптурные изделия) стали более совершенными; искусство обработки камня и кости достигло высокого расцвета. Без всякого преувеличения великим достижением эскимосов можно назвать изобретение поворотного гарпуна, применение которого при добыче крупного морского зверя — кита, моржа, белухи — во много раз увеличило продуктивность труда морских охотников и в конечном счете повлияло на изменение социальной организации: локально изолированные и малочисленные семейные общины, а также одиночные семьи стали концентрироваться в относительно крупных приморских поселениях, образуя в них по одной или несколько родственных и территориальных общин, что диктовалось необходимостью коллективных усилий при добыче крупного морского зверя, объединения родственников и соседей при постройке постоянных полуземляных жилищ и защите от возможных врагов. Этот процесс не затронул континентальных эскимосов (отдельные группы эскимосов внутренних территорий Канадского арктического архипелага), которые расселились по долинам рек и в тундре, избрав своим основным занятием охоту на оленей, мускусного быка и рыболовство.
Вторым примечательным изобретением эскимосов был каяк — одно- или двухместная легкая лодка типа байдарки из тонких деревянных брусьев, каркас которой обтягивали со всех сторон шкурой, оставляя лишь люк для охотника. Каяки, сохранившиеся ныне только у эскимосов Гренландии и Канады, ранее имели широкое применение в морском промысле на всех без исключения территориях расселения эскимосов.
К тому же периоду относится и изобретение умиака — байдары, т. о. открытой лодки с каркасом из тонких брусьев, обтянутым шкурами морских зверей. Такие многоместные байдары служили как для коллективной охоты на кита или моржа, так и в качестве транспортного средства при морских поездках.
Область Берингии заселялась, по-видимому, двумя потоками, первый из которых (алеуты) занял южные районы субарктической зоны Америки (ближе к границам земель, заселенных до того индийскими племенами, также пришедшими из Северной Азии); вторым потоком переселенцев были эскимосы — инуиты и юиты, занявшие приморские земли по обе стороны Берингова пролива с прилегающими к ним островами. Впоследствии алеуты, покинув материк, перебазировались на острова, названные русскими мореплавателями Алеутскими.
Предки эскимосов закрепились первоначально па побережье Аляски и частично на Чукотском побережье. Здесь они заложили основу особой цивилизации арктических охотников на оленя и морского зверя, которая с течением веков распространилась от Берингова пролива по всему арктическому побережью Северной Америки вплоть до Гренландии.
Отделение протоалеутов от протоэскимосской генетической общности произошло ранее разделения юитов и инуитов. Юиты остались на первоначально освоенных землях в районе Берингии (берингоморское побережье Чукотки, о-в Св. Лаврентия, юго-западная Аляска, о-в Нунивак), а инуиты распространились по побережью северной Аляски, Канадскому арктическому архипелагу и Гренландии. Юиты и ипуиты, видимо, после отделения протоалеутов контактировавшие многие столетия, сохранили общность основных особенностей их языков, что сказалось в области производственной лексики, названий животных, терминов родства и т. п. Значительное сходство юитских и инуитских диалектов, сходство материальной и духовной культуры, социальных институтов у юитов и инуитов является свидетельством того, что эти два этнически родственных подразделения протоэскимосов были первоначально партнерами в создании как палеоэскимосской, так и неоэскимосской культур в районе Берингии и затем па всей освоенной ими арктической территории.
Алеуты же, отделившиеся от эскимосов ранее, создали изолированную островную культуру морских охотников, которая в силу экологических условий и автономного развития получила свои особые черты. Общим в материальной и духовной культуре, а также в языках у современных эскимосов и алеутов осталось лишь то, что сопутствовало эпохе их генетической общности, которая могла иметь место еще в добериигоморский период и значительное время продолжалось до территориального разделения в районе Берингии [9]. Эти реликтовые признаки генетического родства эскимосов и алеутов подтверждаются также новейшими археологическими и антропологическими изысканиями, проведенными в последние десятилетия.
Несмотря на то что каждый локальный вариант древней эскимосской культуры прошел в своем историческом развитии несколько различных стадий, основополагающие черты ее сохранили идентичность в ряде материальных, социальных и духовных признаков, получивших достаточно широкое освещение в научной литературе [46, с. 9—34].
Эскимосы до недавнего времени не имели своей письменности. В середине XVIII в. датские миссионеры впервые организовали в Гренландии эскимосские школы с обучением на родном языке на основе латинской письменности. В конце XIX в. своеобразная слоговая письменность была создана для эскимосов Восточной Канады. В начале 30-х- годов текущего века письменность па родном языке получили, несмотря на свою малочисленность, советские эскимосы Чукотки. Таким образом, древняя история эскимосов не засвидетельствована какими-либо письменными памятниками, и о далеком прошлом этого народа мы косвенно узнаем по данным археологии, этнографии, антропологии, лингвистики и фольклора. Ценными источниками знаний об эскимосах являются также письменные свидетельства европейских (преимущественно русских, английских, датских) и американских путешественников XVIII — XIX вв. Весьма плодотворной в изучении истории и культуры эскимосов оказалась первая половина XX в. [46, с. 246—256]. Интенсивное изучение эскимосской проблемы продолжается по многим научным направлениям и в настоящее время.
Общая численность эскимосского населения определяется ныне примерно в 100 тыс. человек, из них в Советском Союзе проживает около 1300.
* * *
Эскимосский фольклор, как и фольклор аборигенов населения северо- восточных районов Дальнего Востока и Северной Америки, представляет важный источник для изучения и понимания древней и современной культуры эскимосов.
Исполнение, сказок у эскимосов не было достоянием какой-либо избранной социальной касты рассказчиков. Рассказывать сказку мог любой член общины или семьи, поскольку знание устных традиций, обобщающих жизненный опыт предшествующих поколений, было обязательным для каждого. Однако знание устных народных произведений не означало еще умения передавать их слушателям, поэтому рассказчиками выступали наиболее талантливые члены общины или семьи, независимо от пола и возраста, обладающие хорошей памятью и даром эмоциональной, художественной речи.
Мне в разные годы педагогической (1932—1934, 1939—1941) и позднее (1948—1973) полевой работы по изучению диалектов языка азиатских эскимосов и их культуры посчастливилось встретиться со многими рассказчиками, от которых на четырех диалектах было записано значительное количество текстов разных жанров. Один рассказывали помногу и с высокой художественной и эмоциональной выразительностью, другие — по одному-два текста и с меньшим вдохновением, но каждый стремился передать традиционно устоявшийся сюжет как можно полнее и точнее[1]. Дело в том, что слушатели, знающие сказку, внимательно следили за тем, чтобы рассказчик не исказил содержания основного сюжета произведения. Постоянный контроль слушателей сказки за ее исполнением способствовал тому, что многие сюжеты без существенных изменений дошли из глубины веков до нашего времени.
Проблемы классификации жанров эскимосского повествовательного творчества, исторических путей образования, развития и изменения, взаимодействия и взаимопроникновения отдельных жапров в результате контактов генетически родственных, по длительно разобщенных групп эскимосов, а также их контактов с соседними разноязычными племенами — эти проблемы далеко еще не решены, хотя по-разному и частично поставлены в работая отдельных исследователей (см. [6; 13; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 25; 26; 30—33; 37—39; 41]).
При сравнительной характеристике устного повествовательного творчества эскимосов в настоящем сборнике составитель использует принципы жанровой классификации, которую, учитывая опыт предшествующих публикаций и характеристик фольклора палеоазиатов Чукотки и Камчатки, он принимал ранее [13, с.. 9—48].
К основным жанрам общеэскимосского повествовательного фольклора мы относим: 1) мифологические (космогонические) предания; 2) волшебно- мифологические сказки со следующими подразделами; а) сказки о дружественных, брачных союзах, а также враждебных отношениях человека с животными, б) волшебно-героические сказки о чудесных .похождениях героев и их борьбе с враждебными силами, в) сказки о тунгаках, г) сказки о шаманах, магии, перевоплощении душ умерших предков и каннибалах, д) сказки о сироте; 3) сказки о животных; 4) героические предания; 5) бытовые рассказы.
Условность жанровой классификации эскимосского повествовательного фольклора продиктована тем, что в нем обнаруживаются достаточно выраженная жанровая нерасчлененность, сюжетный и жапровьш синкретизм, явления живого процесса жанрообразования, трансформации и дифференциации жанров.
Включенные, в сборник тексты в совокупности дают достаточно широкое представление об общих типологических особенностях основных жанров, сюжетов и мотивов общеэскимосского фольклора в целом и о специфических чертах его у каждой территориально обособленной группы, при этом учитывается, что «чистота» жанров относительна.
Азиатские эскимосы все виды устного повествовательного творчества подразделяют на три жанра: унипак — весть, новость; унипамсюк — рассказ о действительных и знаменательных событиях в прошлом; унипаган — сказка, мифическое предание. Для фольклора азиатских эскимосов, находившихся многие века в непосредственном экономическом и культурном контакте, с одной стороны, с аляскинскими и лаврентьевскими эскимосами, а с другой — с чукчами, а через них — с другими чукотско-камчатскими народностями, характерно богатство жанров, сюжетов и художественно- выразительных средств передачи произведений устного творчества. Под влиянием чукотско-камчатского фольклора в азиатско-эскимосский проникло не только много сюжетов традиционных жанров мифологических преданий и сказок, по также ряд героических сказаний о междоусобной борьбе отдельных племен и групп за обладание оленьими стадами, за захват имущества кочевниками у береговых жителей. Азиатско-эскимосский фольклор обогащался также и в связи с концентрацией берегового населения в крупных пунктах, где проводились массовые празднества благодарения, посвященные добыче кита или удачной охоте на других морских зверей. Изобилие зверя и относительно устойчивое обеспечение едой и одеждой населения этого района Арктики также создавали благоприятные условия для развития духовной культуры, в частности устного творчества, которое было гораздо богаче и разнообразнее в сравнении, например, с этим же видом творчества канадских эскимосов.
Устное творчество аляскинских эскимосов в целом также имело благоприятные условия для своего развития. Эта группа эскимосского населения, подобно азиатской, находилась в относительно благоприятных экологических, материальных и социально-культурных условиях, способствующих сохранению и обогащению устных традиций. Аляскинские эскимосы через Берингов пролив имели постоянные торговые (обменные) и культурные контакты, с одной стороны, с азиатскими эскимосами и чукчами-оленеводами, с другой — с алеутами и частично с ближайшими к ним племенами северных индейцев. Таким образом, в жанровом и сюжетном отношении фольклор аляскинских эскимосов сохранял свои традиционные особенности и в то же время обогащался за счет адаптации заимствованных от иноязычных соседей произведений устного творчества.
Особое место в общеэскимосском фольклоре занимает повествовательное творчество канадских эскимосов, значительная часть которых с древнейших времен избрала континентальный образ жизни охотников на оленей и мускусных быков, а также речных и озерных рыболовов. Эти виды хозяйственной деятельности не способствовали концентрации населения в сколько-нибудь крупных поселках, не позволяли проводить многолюдных встреч при ритуальных обрядах, на празднествах и в местах обмена. В фольклоре канадских эскимосов, живших небольшими группами и часто отдельными семьями, не зафиксированы сложные в сюжетном отношении и большие по размерам устные произведения. Записанные Нунгаком и Арима, а также Дженнесом канадские тексты отличаются фрагментарностью, изложением общего содержания сказок, в которых часто совершенно отсутствует присущий произведениям эскимосского устного творчества диалог, а все сказочные события, как правило, передаются косвенной речью от имени рассказчика. Вместе с тем канадские сказки весьма интересны тем, что в них сохраняются многие реликтовые общеэскимосские сюжеты, которые более полно отмечаются в фольклоре других групп эскимосов.
Вполне допустимо, что одной из причин фрагментарности текстов сказок канадских эскимосов, как об этом говорится в книге Нунгака и Арима [18], является процесс их быстрой аккультурации, забвение традиционных видов фольклора в связи с постепенной утратой верований в деяния мифологических и сказочных героев. С этим положением нельзя не согласиться. Процесс утраты народных знаний, особенно знаний устного повествовательного творчества, прослежен нами на протяжении последних 45 лет у азиатских эскимосов. Если в 30—40-е годы среди моих информантов па Чукотском побережье не было ни одного, кто бы не мог рассказать серию сказок, то во время лингвистических экспедиций 1960—1970 гг. таких хранителей родного фольклора оставалось совсем мало, а охотников рассказывать слышанные в детстве «небылицы» можно было пересчитать по пальцам. Молодое поколение советских эскимосов, воспитанное в школах-интернатах, приобщившееся к современной культуре и коренным образом изменившемуся образу жизни, уже не помнит повествовательного творчества своих предков в условиях полного отрыва от его культурных истоков.
Фольклор эскимосов Гренландии отличается богатством жанров мифологического содержания: мифологических преданий, волшебно-мифологических сказок. В гренландском фольклоре сохранились наиболее архаические сюжеты общеэскимосских мифологических преданий и сказок, которые у других групп эскимосов (особенно у азиатских и аляскинских) обнаруживаются не всегда четко в связи с контаминацией их с сложетами соседних иноязычных или отдаленно родственных народов. В этом отношении фольклор гренландских эскимосов может служить надежным критерием выделения общеэскимосских сюжетов и мотивов.
Гренландские эскимосы, как и канадские, после отделения их от общеэскимосского этнического массива оказались в изолированном положении в открытой и освоенной ими стране вечных льдов. Но в отличие от канадских и других групп эскимосов гренландцы были самой многочисленной и компактно живущей группой, что благоприятствовало сохранению и обогащению различных форм самобытного искусства, в том числе и устного повествовательного творчества, которое, сохраняя берингоморскую основу, почти не подвергалось иноязычному влиянию в жанровом и сюжетном отношении. Что же касается реалий, не свойственных исконно эскимосскому быту, но упоминающихся в отдельных текстах, то они заимствованы под влиянием встречи с европейцами в последние века и, по существу, не изменяют традиционного содержания сюжета.
В отличие от фольклора азиатских эскимосов в гренландском фольклоре не получили сколько-нибудь широкого развития героические сказания о борьбе с иноязычными племенами и общинами или даже родственными группами. Правда, в народной памяти гренландцев сохранились воспоминания о далеких по времени столкновениях эскимосов с викингами-норманнами в последний период трагического исчезновения колоний последних на южном побережье Гренландии (колонии скандинавов в Гренландии были основаны в X в. и прекратили свое существование, видимо, в XV в.). Предположение историков о том, что влияние скандинавов на экономику и культуру эскимосов в этот период было невелико и сводилось к заимствованию только отдельных предметов европейской культуры [46, с. 35—37], находит косвенное подтверждение в фольклоре (см. № 256, 272). Тексты указывают на вероятность возникновения их в период недружественных и эпизодических контактов эскимосов с викингами в X — XV вв., поскольку вторичная колонизация Гренландии датчанами, начавшаяся в XVII в. и продолжающаяся в настоящее время, протекала в условиях мирного сосуществования колонистов с эскимосами и не могла послужить причиной возникновения «немирных» сюжетов устного творчества.
Мифологические (космогонические) предания эскимосов восходят к той «мифической» эпохе, «которая предшествовала современному состоянию мира» [30], когда человек первобытнообщинной формации по отделял себя еще от окружающей его природной среды и глубоко верил в существование различных создателей мира, света, огня, человека и животных [22].
В роли культурных героев подобных преданий в эскимосском фольклоре выступают такие персонажи, как девушка, не желающая выйти замуж, которая, превратившись в моржа (или лахтака, белуху, нарвала), становится хозяйкой моря, творцом людей и животных; человекоподобный небожитель, регулирующий поведение и жизнь людей на земле; брат и сестра, становящиеся лупой и солнцем и регулирующие погоду; ворон — создатель живого и неживого мира; «хозяева» пространства и погоды и т. д.
Выдающийся исследователь древней культуры центральных эскимосов К. Расмуссен из множества выявленных им мифологических творцов выделяет три основных, наиболее часто встречающихся в устной традиции эскимосов, а именно: Таканакапсалюк — «хозяйка моря» (по Расмуссену — «морской дух»), Силя — «дух пространства» и Тагкик (аз.-эск. Танкик) —«дух луны» [20, с. 02—68].
К наиболее распространенным по всему эскимосскому региону относится мифологическое предание о девушке, пе желающей выйти замуж. Одним из полных и логически последовательных вариантов этого предания представляется вариант, записанный К. Расмуссеном у эскимосов-иглулик [20, с. 03—06], но отсутствующий в пашем сборнике, поэтому для сравнения его с другими вариантами мы приводим здесь текст в сокращении. «Девушка не хотела иметь мужа, и однажды отец ее в гневе сказал, что ее муягем станет, наверное, собака. И вот ночью вошла собака и взяла девушку в жены. Когда девушка забеременела, отец отвез ее на маленький остров, по собака переплыла пролив, чтобы снова соединиться с женой. Время от времени собака переплывала пролив, чтобы в привязанную к спине торбу получать мясо от отца. И вот девушка родила детей — одних в образе собак, других в образе людей. Зная страдания дочери, отец однажды нагрузил торбу собаки камнями и песком, прикрыв сверху мясом. Собака, поплыв с тяжелой ношей, утонула в проливе. Тогда отец сам стал переправлять на остров мясо для дочери и ее детей. Но рассерженная дочь велела своим детям-собакам напасть на каяк деда, и ему с трудом удалось вернуться на материк. Дочь уложила своих детей-собак на дно лодки, а рядом с ними положила три соломинки для мачт. И дети ее поплыли в море, чтобы стать предками белого человека. Затем она уложила своих детей в человеческом облике в лодку и велела плыть к земле, где они стали предками индейцев-чиппевеев. После этого она вернулась к своим родителям. Однажды девушку обманом завлекла птица глупыш в человеческом облике. Они приплыли к шалашу из птичьих шкур, где стали жить вместе и завели детей. Но скорбящий отец девушки сел со своей женой в лодку и поплыл посмотреть, как она живет. Он прибыл туда, когда глупыш был на охоте, забрал дочь в свою лодку и поплыл домой. Глупыш, вновь обернувшись птицей, поднялся и, нагнав лодку, набросился на нее, подняв такой шторм своими крыльями, что лодка чуть было не перевернулась. В страхе отец бросил дочь в воду, но она схватилась за борт. Тогда отец отрубил верхние суставы ее пальцев, они закачались в воде и стали маленькими тюленями. Но девушка снова ухватилась за конец лодки, и отец отрубил ей нижние суставы, которые упали в воду и стали моржами. Девушка пыталась все же хвататься за лодку остатками суставов, но отец отрубил и их. Эти суставы стали большими моржами. Тогда девушка погрузилась в пучину, чтобы стать матерью морских животных».
Мифы о сотворении людей разных племен и животных, связанные с деяниями «девушки, не желавшей выйти замуж», у разных ветвей эскимосов зафиксированы в целой серии версий. Так, у полярных эскимосов области Туле эта же девушка производит не только индейцев и белого человека, по также эскимосов, духов-тунгаков, тюленей и волков [16, № 11, здесь № 202].
Ф. Боас у эскимосов Баффиновой Земли зафиксировал версию втого мифа, в которой отрубленные у девушки суставы пальцев превращались в китов, нерп и лахтаков [48, с. 584, 637]. Во многих версиях этого мифа девушка вступает в брачный союз с собакой, в некоторых из этих версий дети-собаки убивают отца девушки [63, с. 118; 17, с. 81].
Этот ранний миф о девушке, творящей людей и животных, в более поздний период развития эскимосского общества и его устного творчества постепенно лишается созидательно-миротворческих начал и трансформируется в волшебную сказку. Так, в тексте чаплинских эскимосов № 119 девушку, не желавшую выходить замуж, покидают родители и односельчане. Она с горя сама бросается в море и становится сивучем. Здесь уже нет мотива творения, хотя мотив чудесного перевоплощения сохраняется. В сказке аляскинских эскимосов на этот же сюжет, но уже о двух непокорных девушках говорится о брачном союзе их с гагарами, который приводит их к голодной смерти [17, № 12, здесь № 150]. В другом аляскинском тексте древний миф о непослушной дочери, отказывающейся выйти замуж, преобразуется в бытовой рассказ, в котором говорится уже о простом изгнании дочери из дома родителями. Древнее мифологическое предание в данном случае становится канвой, художественным приемом создания реалистического повествования [17, № 7, здесь № 164].
Мифологические предания о девушке, не желавшей выйти замуж и при разных обстоятельствах становящейся морской владычицей, породили серию иносказательных имен, которыми она нарекалась в разное время у разных эскимосских общин [18, с. 113—115]. В ряде преданий канадских и аляскинских эскимосов эта морская владычица и создательница людей и животного мира табуированно называлась указательными местоимениями типа таканна — «та на воде», самна — «та внизу»[2], кáвна (камна)—«та внутри» [8, с. 134—135] или описательными именами типа нуляйук — «могущая быть женой», агналюк таканнаалюк — «плохая женщина там, внизу, на воде», агнакапшалюк — «большая плохая женщина», ныгывик—«место для еды» и др. [18, с. 113—114].
У азиатских эскимосов и чукчей «создающей» девушкой выступает героиня из эскимосского рода Мамрохпагмит, обитавшего на Чукотском мысе. Чукчи, заимствовав у эскимосов сюжет о девушке, не желающей выходить замуж, адаптировали его согласно традициям устного творчества своего парода. Согласно чукотской версии, девушка из Мамрохпака (чук. адапт. Мэмэрэнэн, ср. [13, № 56]), не пожелав выйти замуж по велению отца, изгоняется и удаляется в тундру, приобретает чудесную силу и создает приморских и кочевых жителей, оленей, и морских животных. В отличие от древних эскимосских мифологических преданий в чукотской версии «создающая» девушка не становится владычицей моря, а творит людей и животных на земле. На адаптацию эскимосского сюжета оказывает прямое воздействие социальная и экологическая среда, в которой обитали в то время чукчи-кочевники.
Таким образом, мы видим, что образ «хозяйки моря» и «создательницы» людей и животных в разных эскимосских фольклорных регионах трансформируется по-разному. Владычица моря в облике разных морских животных — моржа, лахтака, белухи или нарвала, как и владычица тундры — женщина из рода Мамрохпагмит, представляет в эскимосской мифологии, возможно, женщину-прародительницу, в которой отражается матриархальный культ общинно-родовой организации эскимосов, предшествовавший более позднему отцовскому роду. Мотивы непокорной и властной женщины, а также ее созидающей силы демиурга многосторонне отражены в разных жанрах эскимосского повествовательного фольклора и увековечены в древних петроглифах, открытых советскими археологами па Чукотском полуострове [28].
Образы женщины-прародителышцы и женщины — морской владычицы объединяет их единое происхождение — это непокорные воле родителей дочери, по мифологические функции их различны: земная владычица создает людей и животных, морская владычица распоряжается морскими зверями и в зависимости от ее взаимоотношений с людьми дает или не дает им морского зверя.
Владыкой моря может быть и мужской персонаж, как это имеет место в тексте «Человек в гостях у нерпичьего парода» (№ 62), где хозяином подводного мира выступает «старик-нерпа». Этот же мотив мужских персонажей — «хозяев моря» в облике морских зверей имеет место в текстах № 64, 77, а также в корякской сказке «Путешествия Куйкыпняку» [13, № 125].
Вторым распространенным в эскимосском фольклоре персонажем мифологических преданий выступает «хозяин верхнего мира», хозяин стихий.
В диалектах общеэскимосского языка есть термин силя, который означает такие отвлеченные понятия, как «пространство», «внешний мир», «погода», «стихия», «воздух». В эскимосской мифологии это «беспредметное» (не материальное) понятие представляется в образе одного из небесных существ. В мифологических преданиях азиатских эскимосов его называют Силам йугун (силам йон) — «человек окружающего пространства» («человек погоды», «человек вселенной»), Силык — «творец погоды», Силам осыпа — «хозяин пространства», Алмысим йон — «человек обычаев» («хозяин обычаев»). Аналогичные сочетания слов для названия этого персонажа зафиксированы также у эскимосов Нетсилик, Карибу, Коппер и других групп [18, с. 114]. К. Расмуссен приводит мифологическое предание, в котором повествует об одном гиганте и его приемном сыне, убивших другого гиганта с женой. Осиротевший маленький сын погубленных гигантов с горя поднялся на небо и стал духом Силя. В то время, когда Силя расслабляет свои лыжные ремешки или вытряхивает широкий закрытый детский комбинезон, на море начинается шторм [53, с. 71—73; 64, с. 229—231]. Местом пребывания «небесного владыки» может быть луна, тогда самим «владыкой» будет ее сын месяц в облике человека (ср. № 219).
По облику и образу жизни «хозяип верхнего мира» не отличается от обыкновенного человека, но он наделен даром свершения чудесных деяний: при содействии своих морских или земных помощников он заставляет подняться в верхний мир нарушителей старинных обычаев (№ 118); прямо из жилища на каяке выплывает в море, пронзая копьем стену; гостей с земли, небожитель спускает на землю через отверстие в полу землянки при помощи ремня, предварительно одарив их предметами, которые на земле превращаются в оленей, шкурки пушных зверей, мясные припасы и т. д. (ср. № 78, 79,80,118,219).
Одним из «хозяев верхнего мира» в мифологии азиатских эскимосов выступает могущественный Киягнык (букв, «жизнь», «живущий», «существующий»), который повелевает силами стихий и способен как к созиданию, так и разрушению окружающего мира (ср. № 98, 114). Представляется вероятным, что Киягнык, повелевающий грому разрушить гору ради спасения жизни листочка, по представлениям эскимосов, обладает большей магической силой, чем заимствованный из чукотской мифологии небожитель Тынагыргын («рассвет»), способный лишь на деяния, связанные с наказанием и исправлением непослушных и помощью попавшим в беду. Вместе с тем «благонамеренный» чукотский Тынагыргын прочно вошел в эскимосскую мифологию и в известной степени потеснил собственно эскимосских «хозяев верхнего мира» — Кыягныка и близких ему по значению «хозяина дня» — Агныка и «хозяина северо-западного ветра» Пакфаля (№ 97, 107).
Случаи замены владыки верхнего мира женским персонажем в эскимосском фольклоре весьма редки. Нами зафиксирован лишь один сюжет волшебно-мифологической сказки, в котором владычицей верхнего мира вы-., ступает женщина (№ 80).
Азиатско-эскимосские мифологические образы «хозяев верхнего мира» («верхних божеств») — Киягныка, Агныка, Пакфаля, Силам йугуна и пришедшего в эскимосскую мифологию чукотского «небожителя» Тынагыргына — восходят, как нам представляется, к двум общеэскимосским мифологическим образам «верхнего мира» — Силя (Сила) и Таккик. При этом образ Силя в азиатско-эскимосской мифологии выступает прообразом таких «божеств», как Силам йугуна, Агнык и Пакфаля, тогда как «божество» Таккик (эск. таккик «луна») соответствует азиатско-эскимосским Кыягныку, безымянному небожителю, Тынагыргыну и отчасти мифическим орлам- великанам, которые часто выполняют функции, присущие «хозяевам верхнего мира». Таким образом, установившаяся традиционно в фольклористике и этнографии эскимосская мифологическая триада божества моря — Седны, божества стихий — Силя и лунного божества Таккика представляется нам весьма условной, поскольку в разных фольклорных регионах эскимосов эти мифологические образы божеств дополняются не менее могущественными образами совсем иного порядка.
Кроме отмеченных мифических творцов мироздания в эскимосской мифологии выделяется еще большая серия менее значительных персонажей, которые выступают в облике различных карликов, великанов, животных в облике человека, злых духов — тунгаков, предметов и явлений природы. Мифологические и сказочные сюжеты с этими персонажами функционирует самостоятельно или контаминируются с сюжетами, где главными персонажами являются «хозяева» моря, вселенной (пространства, воздуха) или неба,
К жанру мифологических преданий (космогонических преданий, мифов) в общеэскимосском фольклоре следует отнести также весьма распространенные сюжеты о брате и сестре, поднявшихся в погоне друг за другом на небо и превратившихся в солнце и луну (№ 109, 231) и др.
Самым распространенным жанром устного повествовательного творчества эскимосов являются волшебно-мифологические сказки, представляющие собой трансформацию мифологических преданий. В них мифологическая основа, отражающая мифологические мотивы мироздания, сочетается с рассказами о чудесных похождениях героев в различных мирах, об их столкновениях с гигантами, карликами, птицами-великанами, духами-тунгаками, с дружественными и враждебными человеческими и животными персонажами, о содружестве человека и животного, о брачных союзах между ними. Многие сюжеты и мотивы, присущие жанру волшебно-мифологической сказки, как и жанру мифологических преданий, оказываются идентичными для всего эскимосского региона, а некоторые из них проникают и в чукотско-камчатский регион.
Подраздел волшебно-мифологических сказок — сказки о дружественных и брачных союзах, а также враждебных (реже) отношениях между человеком и животными — занимает одно из ведущих мест в эскимосском фольклоре. В этом подразделе сказок, который короче можно назвать «человек и животное», наиболее отчетливо отразились мифологические представления людей первобытнообщинной формации о нерасчлененности и взаимозависимости человека и животного мира.
К подразделу сказок «человек и. животное» у азиатских эскимосов относятся № 28—63, а у аляскинских эскимосов № 140—155, у канадских эскимосов № 168—175, у гренландских эскимосов № 201—217.
Особое место в разделе сказок «человек и животное» занимает цикл сказок о вороне. Вороний персонаж в устном повествовательном творчестве эскимосов распространен по всему региону расселения их от Берингова пролива до Гренландии включительно. С древнейших времен ворон был персонажем не только мифов и сказок эскимосов, но также и их обрядовых танцев, песен, таманских заговоров и игр,
Ворон Кутх — Куйкынняку — Кукки — Куркыль — Кукылин — Кошкли, создающий и разрушающий мироздание, в азиатском регионе исполняет одновременно роль обманщика, шута, простака, трикстера, предающего даже интересы членов своей многочисленной семьи, насмехающегося над ближними или оказывающегося объектом насмешек или издевательств со стороны других человеческих и звериных персонажей (см. [13, с. 22—24; 34]). Азиатские эскимосы, у которых, как и у других групп эскимосов, издревле в мифах и сказках функционировал свой вороний персонаж, не имевший имени и постоянной семьи, через чукчей частично заимствовали импонировавший им ительменско-корякский цикл мифов и сказок о вороне Кутхе — Куйкынняку, который они адаптировали в ряде сюжетов (здесь № 10, 33, 34, 35, 36, 101).
Безымянный эскимосский вороний персонаж в сопоставлении с камчатско-чукотским не обладал столь многообразными мифическими и магическими функциями. В большом ряду волшебно-мифологических сказок эскимосов безымянный ворон занимает меньшее место, чем другие животные персонажи. Чаще всего он является действующим лицом сказок о животных, реже — выполняет мифическую или шаманскую функцию.
Особое место по художественной выразительности и связям с мифологическими преданиями занимают волшебно-мифологические сказки о птицах-великанах. В фольклоре азиатских и аляскинских эскимосов такими птицами являются гигантские орлы. Весьма характерной особенностью сказок о птицах-гигантах является то, что они выступают в роли охотников на дикого оленя или морского зверя (обычно на китов) и, когда возвращаются с добычей в свое жилище, сбрасывают с себя оперение и становятся людьми (в одних случаях — людьми-великанами, в других — обыкновенными людьми).
Персонификация животных персонажей в волшебно-мифологических сказках имеет место по всему эскимосскому региону, но особенно она проявляется В творчестве эскимосов, проживающих по соседству с палеоазиатами Чукотки и Камчатки.
Ведущими персонажами волшебно-мифологической сказки выступают люди, выполняющие роль главных героев. К животным — помощникам человека, наделенным в волшебно-мифологических сказках чудесными свойствами предвидения событий, с которыми сталкивается герой, в эскимосском фольклоре относятся ворон, лиса, волк, гагара, орел, касатки, мышка, горностай, заяц, белый медведь, морской петушок, морские звери — кит, лахтак, нерпа, насекомые — паук, жук. Однако не все из этих животных персонажей исполняют роль постоянных покровителей человека. Так, например, орлы-великаны и белые медведи в одних сказках выступают друзьями человека, в других — его антагонистами (в текстах № 38, 39, 40 орлы покровительствуют человеку, а в тексте № 37 орел становится врагом его; в № 42 белый медведь спасает охотника, а в № 117 этот зверь, перевоплотившийся в человека, откармливает девушку, ставшую его женой, для съедения). Таким же двойственным по сказочным функциям персонажем является безымянный ворон, который в одних случаях покровительствует человеку (№ 30), в других стремится навредить ему (№ 29). К постоянным и верным покровителям человека следует отнести прежде всего лису, которая в образе маленькой женщины (или старушки) оказывает волшебные услуги терпящим бедствие героям (№ 117). Эту же роль верного помощника и советчика героини сказки исполняет паук (№ 71), который в азиатско- эскимосском и чукотско-камчатском фольклоре противопоставляется носителю злого начала — жуку.
Широкое распространение в эскимосском регионе получили сказки о брачном союзе человека и животного, отражающие древние тотемические представления людей первобытнообщинной формации.
Большое место в серии сказок «человек и животное» занимают сказки сюжетной группы «перевоплощение человека в животное». Мотивы такого перевоплощения отличаются множеством вариантов. В одних случаях превращение человека в животное оказывается немотивированным (без помощи «чудесных» или «волшебных» средств), в других — оно мотивируется магическими или «волшебными» приемами. Так, в прекрасной по сюжету и художественным достоинствам сказке № 53 азиатских эскимосов превращение женщины в оленя мотивировано тем, что вредоносное существо, «маленькая женщина», высасывает у усыпленной ею женщины мозг, а вместо него вдувает олений мозг, отчего она и становится оленем, убегающим в стадо.
В целом о большинстве животных персонажей волшебно-мифологических сказок можно сказать, что они выступают в роли тотемных покровителей человека, выполняя в то же время отдельные архаические функции «создателей» мира.
Особый раздел в жанре волшебно-мифологической сказки эскимосов занимают многочисленные повествования о духах тунгаках (тугныгаках) и близкие им по выражаемым магическим представлениям сказки о шаманах. Сюжеты сказок о тунгаках часто невозможно отделить от контамшшрую- щихся с ними сюжетов о шаманах: мифические существа — тунгаки являются такими же непримиримыми антагонистами человека, каким может быть и шаман, который с помощью различного рода магических действий или хитроумных фокусов способен помочь человеку или нанести ему вред.
Сказки с участием тунгаков получили распространение по всему эскимосскому региону. Эти существа в эскимосском фольклоре фигурируют в самых невероятных обликах — от человекоподобных особей до самых отвратительных уродов, каких только может создать воображение человека.
Эскимосские сказки о шаманах представляют собой повествования об общении шаманов с духами-тунгаками, с душами умерших из «верхнего мира» или с душами находящихся в плену у «хозяев» моря или неба, об оживлении умерших, излечении больных, о магических состязаниях шаманов между собой. Сказки о шаманах, об их магическом воздействии на окружающий мир в эскимосском фольклоре часто контаминируются с сюжетами традиционных мифологических преданий и сказок. Шаманы в волшебномифологических сказках не только исполняют свою прямую миссию прорицателей и колдунов, но и совершают много других действий и поступков, присущих рядовым персонажам этого жанра сказки. Обрядовый шаманский акт и художественный вымысел в таком произведении сливаются воедино.
Шаманской магии, по представлениям эскимосов, подвластны люди и животные, предметы и явления природы. Во многих волшебно-мифологических сказках магическую силу, которой обычно обладают шаманы, часто немотивированно или (реже) по наущению шамана обретают рядовые персонажи или главные герои сказочных событий. «В народной сказке,— отмечает Е. М. Мелетинский,— отражался также рост самосознания индивида, активизировался сказочный герой и складывался своеобразный культ героя. Этот процесс шел независимо от шаманизма и даже в принципе в противовес ему: в сказках оказывалось, что не только шаманы, но и простые охотники и оленеводы могут обладать исключительными способностями. Правда, сами эти способности мыслились как соединение физических и магических сил» [31, с. 79]. Это положение известного исследователя фольклора палеоазиатских народностей подтверждается при детальном знакомстве с устным творчеством как народностей Чукотки и Камчатки, так и особенно эскимосов по всему региону их расселения. Вот почему при знакомстве с повествовательным фольклором эскимосов не следует проводить особой грани между волшебно-мифологическими сказками с многообразными перевоплощениями и чудесными похождениями их героев и сказками о шаманах.
В волшебно-мифологических сказках нашли широкое отражение анимистические представления эскимосов, связанные с верой в возрождение и перевоплощение душ умерших предков или родственников в животных, предметы неживой природы, в новорожденных. Они были неотъемлемым компонентом духовных воззрений эскимосов с самых древних времен вплоть до XX в.
Сказочные сюжеты с отражением анимистических мотивов отчетливо сохранились в ряде текстов азиатских и зарубежных эскимосов. Так, в тексте № 52 говорится о паре белых оленей, в которых воплотилась душа умершего деда и которые стремятся вызволить из беды внука. Реалистический, казалось бы, рассказ об угоне врагами-танпитами чужого стада и похищении мальчика переплетается здесь с мифом о воплощенной в паре белых ездовых оленей душе предка. В сказке № 65 блуждающая душа человека не находит себе покоя и поочередно воплощается в медведя, волка, лисицу, птицу и наконец снова обретает человеческий облик. Миф о блуждающей душе, способной воплощаться в любое животное, зафиксирован также Е. Холтведом у гренландских эскимосов (№ 268). В аляскинской сказке № 148 душа умершего предка перевоплотилась в бурого медведя, который напоминает юному охотнику, чтобы тот не забывал приносить ему долю добычи. Непослушание может привести к гибели охотника. Здесь зверь в образе медведя — умерший отец юноши. В другой сказке (№ 147) охотник не исполняет просьбы оленя, просящего сохранить ему жизнь, и убивает зверя, но и сам погибает от оленьего заклятия. И здесь имеется в виду, что в оленя вселилась душа предков. В сказке № 159 дух в образе человека, выходящий из могилы умершего, забирает приношения сироты, но, когда сирота не оставляет духу добычи, тот оборачивается огненным шаром и едва не настигает юношу, которого спасает шаман, убивающий духа своим заклинанием. Идеи анимизма и шаманизма и здесь сосуществуют. Характерная для эскимосского фольклора контаминация серии сюжетов, относящихся к различным видам волшебно-мифологической сказки, ярко представлена в сказке № 161: волшебный череп, в который вселилась душа умершего предка, требует и получает жертву; здесь же — рассказ о шаманских трюках, кровной мести, каннибализме и волшебной собаке.
Сказки о каннибалах зафиксированы в разных вариантах у всех групп эскимосов и представляют один из древнейших пластов эскимосского повествовательного фольклора. Каннибалы представляются в сказках как в образах человекоподобных и животных великанов, чудовищ, тунгаков, так и в образе людей особого племени головастиков (№ 243). Сказки о каннибалах особенно широкое распространение получили у гренландских эскимосов, где они функционируют как с самостоятельными, так и с контаминированными сюжетами (ср. № 193, 230, 233, 243, 255, 258).
В фольклоре эскимосов имеется серия сказок о карликах, которые в большинстве случаев представляются в образе людей маленького роста, ведущих человеческий образ жизни и обладающих достаточной физической силой, чтобы нести добытого оленя (№ 179). Карлики дружественно относятся к людям и готовы поделиться с ними добычей, но они могут быть и агрессивными, если человек в отношении их проявляет жадность и силу (№ 225). Сказки о карликах наиболее широко распространены в фольклоре канадских и гренландских эскимосов (№ 179, 185, 186, 225, 226, 236).
Одной из разновидностей волшебно-мифологической сказки являются сказки о сироте, занимающие значительное место в устном повествовательном творчестве эскимосов. Сказки о сироте весьма разнообразны. В одних из них повествуется о тяжелой жизни сироты и его бабушки, добывающих ловушками куропаток или мелкого тундрового зверя, в других же сирота ведет трудную и упорную борьбу со своими обидчиками — насильниками- старшинами, злыми дядьями, вредоносными тунгаками, каннибалами, великанами и другими враждебными силами.
Сирота, преодолевший множество жизненных труностей ипрепятствий, становится героем чудесных событий. Образцом волшебно-героической сказки о сяроте является, например, сказка аляскинских эскимосов (№ 144), в которой сирота и его бабушка, жестоко обижаемые односельчанами, обретают магическую силу волшебства, перевоплощаются в волка (внук) и горностая (бабушка), а их обидчики погибают. Героем волшебно-мифологических сказок о «хозяине огня» у азиатских и аляскинских эскимосов (тексты № 70, 158) также является мальчик-сирота, который при помощи чудесных предметов побеждает огненное чудовище. У гренландских эскимосов имеет повсеместное распространение сказка о сироте Кагсагсуаке. Один из вариантов этой сказки записан в начале XX в. выдающимся исследователем Арктики К. Расмуссеном и был издан даже отдельным изданием с красочными рисунками, выпсышенными художниками-эскимосами. Сказка о Кагсагсуаке была записана Е. Холтведом в середине 30-х годов текущего века у полярных эскимосов области Туле (№ 228), а ее вариант (№ 229) записан X. Ринком в середине XIX в. у эскимосов Гренландии. Сюжет этой архаической сказки в разных вариантах встречается у эскимосов и других районов, где он претерпел значительные изменения.
В отличие от сказок о сироте у гренландских, канадских (частично) аляскинских эскимосов в фольклоре азиатских эскимосов этот вид жанра волшебно-мифологических сказок получил более насыщенную социальную окраску. Объясняется это непосредственными связями азиатских эскимосов, промышлявших морского зверя, с их соседями — иноязычными чукотско- камчатскими племенами палеоазиатов, занимавшимися оленеводством. Установившийся натуральный обмеп между приморскими и береговыми жителями повлек за собой и взаимовлияние духовной культуры, верований, устного и других видов народного художественного творчества. В фольклоре это взаимовлияние особенное отражение нашло в сказках о сироте. В сказках чукотско-эскимосского региона мотивы социальных противоречий, особенно мотивы отношения к обездоленным людям, становятся преобладающими. Мифологическая окрашенность сказок о сиротах, да и других волшебно- мифологических сказок, снижается и уступает место изображению острых социальных конфликтов, связанных с возникновением имущественного неравенства как среди оленеводов, так и среди приморских охотников. Морально-этические нормы первобытной общины в новых условиях претерпевают изменения, и героические поступки обретшего силу сироты теперь преимущественно направлены на борьбу с насилием и несправедливостью со стороны старшин-умилыков и богатых оленеводов.
Сказки о животных выделяются в особый жанр в эскимосском фольклоре по признакам их прямой генетической связи с мифологическими преданиями и волшебно-мифологическими сказками, в которых отражаются космогонические и тотемические представления, верования и обряды людей первобытнообщинной формации. Для протоэскимосов эта эпоха охватывает периоды палеолита и неолита, длившегося до начала контактов с европейцами.
Жанр сказок о животных у эскимосов возникает и развивается, таким образом, в тех же общественно-исторических условиях, что и мифологические предания и близкие им волшебно-мифологические сказки: в основе сказок о животных лежат мифологические представления эскимосов о мировом творчестве, олицетворение ими живой и неживой природы, синкретизм человека и зверя. Антропоморфизм живой природы, одухотворение предметов и явлений окружающего мира у эскимосов, палеоазиатов Чукотки и Камчатки, индейских племен Северной Америки и других народов этого региона непосредственным образом был связан с первобытнообщинной, а следовательно, и весьма примитивной охотой на дикого оленя (повсеместно), мускусного быка (Северная Америка) и на морского зверя (по всему региону расселения эскимосов, алеутов, приморских чукчей и коряков), которая в условиях суровой Арктики была главным занятием и единственно надежным условием выживания человека. Любой зверь, птица и другие представители живого мира Арктики (рыбы, насекомые, ракообразные) неизбежно наделялись человеком тотемными и анимистическими чертами. Мировоззренческая и художественная фантазия охотника и окружающих его людей непосредственно увязывалась с животным миром, каждый представитель которого жил той же сложной и трудной жизнью, как и человек, которому зверь оказывал постоянную и неизменную помощь в добывании пищи и одежды. У азиатских эскимосов, например, строго соблюдался обычай приношения даров «хозяину моря» всякий раз, когда добывали моржа или лахтака. Старшина байдарной группы после коллективной разделки (свежевания) зверя уносил его голову в свое жилище, где хозяйка отрезала от носа и губ зверииой головы куски шкуры с мясом, разрезала их на мелкие кусочки и укладывала в жертвенный деревянный сосуд в виде корытца иод названием «мити». С этим маленьким сосудом на берег моря шел сам хозяин, облаченный в специальный ритуальный плащ с нашивками-амулетами на спине. Он становился у самой кромки воды спиной к морю и череп плечо выбрасывал ритуальные кусочки в воду, обращаясь к «хозяину моря» с просьбой, чтобы тот вместо присланного им «гостя» (т. е. добытого охотниками моржа) прислал в следующий раз столько, сколько кусочков от звериного носа он возвращает обратно в море. Особенно красочными в этом отношении у азиатских эскимосов были ритуальные празднества, посвящаемые добыче кита, «дух» которого в сказках представлялся в образе человека.
Дружественные отношения человека с животными восходят к тем же мифологическим преданиям и волшебно-мифологическим сказкам, где человек и животное перевоплощались друг в друга. В мифологических приданиях зверь, будучи объектом охоты, выступал не врагом человека, а его союзником. Охотник не убивал зверя, а добывал, находил его, поэтому наделял его теми же духовными качествами, которыми обладал сам.
С развитием и усовершенствованием способов охоты на крупного морского зверя, расширением познания окружающего мира у людей первобытнообщинной формации развивается дифференцированное отношение к созданным ими мифологическим преданиям о человеке-звере. Вера во взаимное перевоплощение человека и зверя продолжает еще сохраняться, но с изменением духовной культуры людей этой древней эпохи в устном повествовательном творчестве происходят постепенные изменения сюжетов и жанров, и из мифологических преданий о кровном союзе человека и зверя выделяется сказка о животных как особый жанр, в котором участниками сказочных событий выступают только животные персонажи. В этом жанре отсутствуют уже мотивы перевоплощения животных в человека, как и мифологические мотивы миротворчества и фантастических превращений. Здесь повседневная жизнь охотничьей общины как бы проецируется на сообщество животных.
В эскимосском фольклоре наметились как бы два типа функционирования животных персонажей: с одной стороны, они продолжают выполнять мифологические функции тотемных покровителей человека в волшебно-мифологических сказках или его врагов, с другой стороны, уже в собственно животных сказках эти же персонажи выступают в роли ловких, смелых, хитрых и изворотливых деятелей (лиса, ворон, олень, горностай, сова, бакланы, чайки, заяц) или же глупых и трусливых неудачников (бурый медведь, волк, ворон). Эта вторая группа и составляет собственно жанр животных сказок, в которых отсутствует элемент волшебно-мифических деяний персонажей.
Среди сказок о животных (здесь № 1—27, 135—139, 166—167, 197—200) в эскимосском фольклоре выделяются такие, которые возникли и развились не на основе волшебно-мифологических преданий, а посредством адаптации заимствованных сюжетов из устного творчества других народов, часто далеко отстоящих от эскимосов. Так, сказка «Хитрая лиса» (№ 13) в разных вариантах бытует у ряда других народностей Сибири, а мотив с приморажи- ванием волчьего хвоста в проруби по наущению лисы явно соответствует такому же мотиву из сходной по сюжету сказки русского фольклора. То же можно сказать о сюжете сказки «Бычок и волк» (№ 15), широко распространенном у коренных народностей Сибири, особенно тунгусоязычных.
Большинство сказок о животных, утратив первоначальную мифологическую основу, постепенно образовало особый жанр, где ведущим направлением стали развлекательность и поучительность, а под говорящими, работающими, думающими, дружащими и враждующими четвероногими или крылатыми персонажами стали подразумеваться обыкновенные люди. Животная сказка во многих случаях приобрела басенный характер и стала выражать морально-этические нормы поведения членов охотничьей общины, для которых сила, ловкость и хитрость при добыче зверя были постоянными и жизненно необходимыми качествами (ср. № 17, 18, 22, 23, 25, 26 и др.).
Жанр героических сказаний наибольшее развитие получил у азиатских эскимосов в период разложения первобытнообщинных отношений и появления выраженной социальной дифференциации в связи с развитием в чукотском регионе двух экономических укладов — кочевого оленеводства и морского зверобойного промысла. Межплеменные корякско-чукотские войны за обладание оленьими стадами и пастбищами в период становления домашнего оленеводства, обменные контакты кочевников с приморскими жителями, а также набеги ватаг кочевников на селения приморских жителей а целью захвата их имущества и пленников, наконец, борьба отдельных стойбищ и семей друг с другом — всё это нашло отражение в устных традициях палеоазиатов Чукотки и Камчатки — чукчей, коряков и ительменов, а также азиатских эскимосов, которые, с одной стороны, принимали участие в междоусобных чукотско-корякских войнах на стороне чукчей, с другой — вступали в поединки со своими одноплеменниками-эскимосами с соседних островов. В этом отношении показательными представляются тексты № 123, 127, 128, 129, 132, 133. Героические сказания о межплеменных войнах палеоазиатов Чукотки и Камчатки породили зачатки эпоса, в силу исторических причин не получившего дальнейшего развития. Сложившиеся условия общественной жизни, стабилизировавшиеся в XVIII в., не могли способствовать появлению и развитию новой серии героических сказаний. В народной памяти палеоазиатов, в том числе и азиатских эскимосов, сохранилось все то из зарождавшегося эпоса, что было создано до завершения чукотско- корякских войн.
В чукотском и азиатско-эскимосском фольклоре нашли отражение также реальные исторические события, связанные со столкновениями казачьих отрядов с кочевниками-оленеводами, которых казаки под водительством майора Павлуцкого безуспешно пытались обратить в «ясашных людей». Павлуцкий, которого чукчи в своих сказаниях называли именем Якуни, был убит во время сражения с чукчами в 1747 г. [24, с. 43]. В эскимосском сказании «Меткий стрелок» (№ 124) предводителя «бородатых» врагов по имени Якуни маленький мальчик поражает стрелой из детского лука. Раненный в глаз герой просит прикончить его копьем (обычай, соблюдавшийся всеми палеоазиатами чукотско-камчатского региона и отраженный в ряде устных произведений различных жанров).
Главные действующие лица героических сказаний наделяются обычно личными именами, которые придают произведению известную степень достоверности события. Так, в сказании о сражении науканцев с пришельцами (№ 132) описание топонимических объектов дается настолько детально, что по ним и в настоящее время можно восстановить реальную картину случившегося в далекие времена сражения. Описание и перечисление многих других реалий в этом сказании еще более убеждает в реальности события, которое так точно запечатлелось и сохранилось в памяти народа.
В фольклоре других групп эскимосов (аляскинском, канадском, гренландском) героические предания типа чукотских и азиатско-эскимосских не имели почвы для развития, поскольку у них не было четко выраженного противоборства с другими племенами.
Однако у эскимосов всех четырех групп сложился жанр бытового рассказа, который запечатлел в народной памяти особо выдающиеся события из жизни охотничьей общины, семьи или отдельных людей.
В рассказах этого жара отражаются бытовые и социальные стороны жизни людей преимущественно в период разложения первобытнообщинных отношений и появления имущественного неравенства. У азиатских эскимосов к рассказам, с давних пор бытующим в репертуаре традиционного устного творчества, относятся № 121, 122, 124, 125, 126, 131, 134; у канадских эскимосов к этому жанру относятся рассказы № 193—196; у гренландских эскимосов — № 271—278.
В рассказе № 121, широко бытующем в различных вариантах у азиатских эскимосов, детально изображаются различные стороны быта кочевников-чукчей, заключение брачного союза, картины состязаний в силе, беге и ловкости. В этом бытовом рассказе совершенно нет сказочных мотивов, однако эскимосы относят его к жанру унипаган («сказка»), поскольку повествуется в нем о давно минувших событиях. В рассказ о двух силачах (№ 122) вкрапливается сказочный мотив о приобретении ими чудесной силы. Такое же вкрапление сказочного мотива наблюдается и в рассказе № 272, который восходит ко времени викингов (X — XIV вв.) Появление в бытовых рассказах сказочных мотивов происходит под влиянием жанра волшебно-мифологической сказки. Великолепный в художественном отношении рассказ о лжеце Касяхсяке (№ 278), который своими лживыми охотничьими россказнями наносит непоправимый вред семье и всей общине, кончается наказанием обманщика. Мотивы преувеличения в охотничьих рассказах присущи далеко не одним эскимосам, но эскимосы, возможно, были одними из первых охотников, придумавших эти рассказы под влиянием ранее возникших мифологических преданий и сказок, получивших уже устоявшуюся «мифологическую» структуру.
* * *
Язык эскимосской сказки предельно выразителен и ясен. Выразительность, простота и гибкость языковых средств художественной передачи устного произведения являются отличительными признаками эскимосского повествовательного фольклора.
Эскимосский фольклор, не претерпевший влияния какого-либо литературного языка, фиксирует ярчайшие образцы обобщенных форм устной народной речи, развивавшейся в диалектных подразделениях языка в течение многих эпох. Сходные условия общественной жизни у отдельных территориальных общин древних эскимосов, взаимодействие их культур служили благоприятной почвой для становления обобщенных типов речи. У народов первобытнообщинной формации несомненное значение имел язык обрядовых действий, отличавшийся особой лексикой и фразеологией, связанными с семейными и общинными ритуалами. В таких жанрах фольклора азиатских эскимосов, как мифологические и животные сказки, предания, обрядовые танцы и песни, совершенно отчетливо отразились многие элементы первобытных религиозных представлений.
Для эскимосского повествовательного фольклора характерно сочетание прямой и косвенной речи. Косвенная речь рассказчика преобладает в мифологических преданиях, волшебно-мифологических сказках и героических преданиях, прямая речь — в сказках о животных, но ни одно из произведений устного творчества не обходится без диалога. Диалог свойствен всем видам устного повествовательного творчества эскимосов. Выразительность, предельная краткость, эмоциональная и смысловая насыщенность прямой речи персонажей являются неотъемлемыми чертами языка эскимосской сказки.
Характерными стилистическими признаками эскимосской сказки, являются деепричастные обороты, обусловленные синтаксическими особенностями языка, образные повторы, песенные вставки, а также инодиалектные и иноязычные обороты.
При литературном переводе с эскимосского языка мы, естественно, придерживались стилистических норм русского языка, стараясь в то же время сохранить особенности эскимосской речи. Так, например, фраза в подстрочном переводе с эскимосского с его многочисленными деепричастными оборотами читалась бы: «Женщина, припасы поев, приготовившись, выйдя, спустилась на берег». В литературном переводе предложение приобретает следующий вид: «Женщина поела припасы, приготовилась в путь, вышла и спустилась на берег».
В фольклоре азиатских эскимосов отмечены три вида песенного жанра, обозначаемые двумя терминами: «атун» и «илаган». Термином «атуп» обозначается танцевальная песня, под ритмы которой исполнялись обрядовые танцы. Атуи исполнялась и сейчас исполняется под звуки бубна коллективом певцов. В этом виде песни почти нет слов, а содержание танца выражается мастерством танцора. Отдельные слова играют лишь вспомогательную роль в выражении содержания танца.
Термином «илагаа» обозначаются песпи со словами. Каждая песня имеет свое содержание и исполняется одним певцом под звуки бубна или без такового. Песни сопровождаются ритмическими припевами без слов, аналогичными ритмам «атун». Имеется два основных вида «илаган»: первый — песни-импровизации, принадлежащие отдельным исполнителям и выражающие их личные переживания, чувства и желания; одни из таких песен живут долго, другие исполняются лишь в момент импровизации; второй — песни-вставки в тексте различных жанров повествовательного фольклора, имеющие постоянное содержание, связанное с содержанием сказки, и устойчивый мотив. Обычно «илаган» состоит из двух-трех куплетов.
До недавнего времени бытовали еще два традиционных вида коллективных песен-импровизаций, исполнявшихся на обрядовых празднествах женщинами. Первый — песни в виде коротких частушек сатирического содержания, исполнявшиеся при состязании противоборствующих групп женщин. Размер таких песен-частушек не превышал трех-четырех коротких фраз. Побеждала та группа, у которой не истощался запас таких обличительных частушек. Второй вид коллективных песен относился к песням без слов, исполнявшимся также до победы одной из двух _групп женщин. Этот вид несен исполнялся посредством глубоких и глухих гортанно-легочных хрипов и требовал от участников особого умения и физических усилий.
Характерно, что в процессе полевых записей текстов повествовательного фольклора, когда от сказителя требуется замедленный рассказ и частые уточняющие повторы, песенные вставки в большинстве случаев опускаются. Стремясь облегчить запись текста, сказитель часто не исполняет песенной вставки, а лишь упоминает о ней. Таким образом, по записанным под диктовку текстам, оказывается невозможным судить о степени полноты и точности текста, о подлинном художественном богатстве и содержании его, что обусловлено пе только пропуском несен, но и заменой диалога косвенной речью.
Более полной и ценной представляется магнитофонная запись. В 1971 г. мне удалось зафиксировать на магнитофонную ленту около десяти сказок различного жанра от талантливой слепой сказительницы Нанухак в эскимосском селении Новое Чаплино. Почти в каждом тексте оказались песенные вставки (см. № 2, 60 и др.). Между тем некоторые тексты на эти же или сходные сюжеты, записанные мною в 1940/41, 1948 и 1960 гг. под диктовку рассказчиков, оказались совсем без песенных вставок или же со вставками в укороченном и упрощенном варианте.
Песенные вставки в эскимосском повествовательном фольклоре характерны в большей мере для коротких сказок, адресованных маленьким детям. При этом собеседником ребенка обычно выступает животный персонаж, который на обращенные к нему вопросы отвечает шуточной песенкой (см. № 29).
Пасенные вставки, исполняемые животными персонажами сказки, передаются часто не, на родном языке рассказчика, а на другом диалекте или языке. Инодиалектпые слова и выражения в фольклоре азиатских эскимосов встречаются также в диалоге человеческих и животных персонажей и в косвенной речи, когда сказитель употребляет слова табуированного значении или так называемые слова духов. Табуированные слова встречаются чаще всего в волшебно-мифологических сказках и шаманских преданиях.
* * *
Первые специальные записи текстов эскимосского фольклора относятся ко второй половине XIX и первой половине ХХ в. В 1875 г. в Лондоне были изданы тексты гренландских сказок, записанных X. Ринком [19]. В ряде своих этиологических исследований о центральных эскимосах, особенно эскимосах Баффиновой Земли и Гудзонова пролива, публикует и комментирует серию текстов известный исследователь аборигенов американского Севера Ф. Боас. В 1924 г. Д. Дженнес публикует тексты сказок аляскинских и канадских эскимосов, собранных во время работы Канадской арктической экспедиции 1913—1918 гг. [17]. Р. Расмуссен публикует серию текстов эскимосов территориальных групп иглулик и карибу, записанных им во время ого участия в работе Пятой экспедиции Туле в 1921—1924 гг. [20]. Наиболее полное и систематизированное по жанрам собрание фольклора гренландских эскимосов публикует в 1951 г. датский этнолог Е. Холтвед, дважды (в 1935—1937 и 1947—1948 гг.) совершивший длительные экспедиции к малоизученной группе полярных эскимосов Гренландии; собрание сказок Е. Холтведа опубликовано в двух томах, включающих эскимосский текст с подстрочником на английском языке и отдельно литературный английский перевод [16]. Значительное количество текстов канадских эскимосов с параллельный английским переводом в 1969 г. опубликовали З. Нунгак и Е. Арима [18]. Кроме того, тексты гренландских и аляскинских эскимосов в качестве приложений к трудам по этнографии публиковались в разное время в работах ряда зарубежных исследователей.
Запись фольклорных текстов азиатских эскимосов впервые осуществил: в 1901 г. известный русский этнограф В. Г. Богораз. Его тексты были опубликованы в 1909 г. [1а] и в 1949 г. [1]. В 1954 г. вышел большой сборник сказок азиатских эскимосов с подстрочником на русском языке, составленный Е. С. Рубцовой [10]. В разное время сказки азиатских эскимосов в оригинале и переводах публиковались составителем настоящего сборника [2—9; 13], которым за многие годы лингвистических экспедиций к эскимосам было записано на разных диалектах около двухсот текстов.
В настоящее собрание включены образцы фольклорных текстов гренландских, канадских, аляскинских и азиатских эскимосов в записях X. Ринка, Д. Дженнеса, Е. Холтведа, 3. Нунгака и Е. Арима, Е. С. Рубцовой, Г. А. Меновщикова и Н. Б. Вахтина.
Составитель выражает глубокую признательность профессору Б. Н. Путилову, кандидатам исторических наук М. А. Членову и И. И. Крупнику за денные замечания по всем разделам кпиги, которые учтены при подготовке ее к печати.
Г. Меновщиков
Источник – «Эскимосские сказки и мифы». Перевод с эскимосского и английского. Составление, предисловие и примечания Г. А. Меновщикова. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. 536 с. («Сказки и мифы народов Востока»)
[2] Следует заметить, что Ф. Боас, отметивший имя морской владычицы в форме указательного местоимения се дна среди эскимосов Баффиновой Земли и пролива Дэвиса, а также в формах сапа к, сана и даже сидни, ввел его в оборот в качестве этнографического термина для обозначения этого мифического существа [48, с. 583, 605]. У азиатских эскимосов и эскимосов Берингова пролива это местоимение имеет форму самна — «тот внизу». Звука «д» нет и в других эскимосских диалектах, поэтому остаются исходные варианты самна/сана, а термин с е д н а, широко употребляемый в этнографической литературе, на поверку оказывается отсутствующим в эскимосском языке